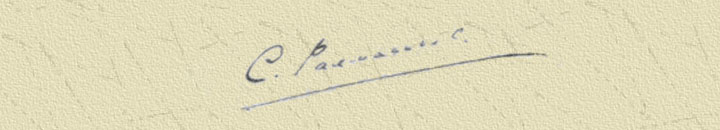
М. Л. Пресман
УГОЛОК МУЗЫКАЛЬНОЙ МОСКВЫ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
(Памяти профессора Московской консерватории Н. С. Зверева)
При случайной встрече с группой старых товарищей мы вспоминали о покойном профессоре Московской консерватории Николае Сергеевиче Звереве. Один из них, зная мою близость к покойному учителю, сказал: а как было бы хорошо, если бы вы написали свои воспоминания об этом исключительном человеке! Какую колоссальную роль сыграл он в жизни музыкального искусства вообще и нашей Московской консерватории в частности.
Слова эти глубоко запали мне в душу. Часто я о них вспоминал, и только полное отсутствие свободного времени, сложная и ответственная работа не давали мне возможности приступить к желанному и приятному для меня делу — написать свои воспоминания о человеке, вся трудовая и кипучая жизнь которого прошла в беззаветном служении тем, кого он считал причастными к горячо любимому им самим музыкальному искусству.
Мне кажется, что профессионалом-музыкантом Н. С. Зверев сделался случайно. Музыкальное образование Зверев получил наряду с общим. Он дошел чуть ли не до последнего курса математического факультета.
Музыке Николай Сергеевич учился у таких корифеев прошлого столетия, как А. И. Дюбюк, ученик замечательного пианиста Фильда, и знаменитый пианист и композитор Адольф Гензельт.
Тот факт, что Зверев учился именно у них, может служить лучшим показателем его одаренности. Трудно допустить, чтобы Дюбюк и Гензельт занимались с ним, если бы у него не было достаточных природных музыкальных способностей. Свою мысль, что Зверев музыкантом сделался случайно, я основываю еще на том, что, как мне стало потом известно, теорию музыки он изучал у Петра
Ильича Чайковского, будучи уже сам преподавателем консерватории по классу фортепиано.
Лично я впервые услышал имя Зверева, когда мне было десять-одиннадцать лет. Я жил тогда во Владикавказе, где начал учиться игре на фортепиано. На летние каникулы во Владикавказ приехала из Москвы хорошая знакомая моих родных, девица В., ученица Зверева. Игра ее мне очень понравилась, мне захотелось и самому так хорошо играть, захотелось стать настоящим музыкантом, а для этого попасть в ученики к Звереву.
Когда мне исполнилось двенадцать лет, в 1883 году, отец повез меня в Москву в консерваторию, и, конечно, раньше всего к Звереву. Зверев испытал мои способности, прослушав мою игру на фортепиано. Тот факт, что сам Зверев производил испытание моих способностей, был для меня счастливым предзнаменованием.
Знал я в то время и играл сравнительно еще очень мало, тем не менее Зверев согласился зачислить меня в свой класс.
С первых же слов он поинтересовался узнать: как отец намерен был устроить меня в Москве? Есть ли для жилья и работы комната? Как обстоит вопрос с питанием? Есть ли у меня инструмент? И, наконец, будет ли за мной какое-либо и с чьей стороны наблюдение? На все эти вопросы отец никакого конкретного ответа дать не мог. Знакомых у него в Москве не было. До отъезда в Москву мы знали, что некоторые ученики жили у Зверева; у нас теплилась надежда: может быть, Николай Сергеевич возьмет меня к себе, и не только в класс, но и на воспитание.
Не хватило ли у отца смелости попросить Зверева взять меня к себе, или он считал, что устройство меня на жительство к Николаю Сергеевичу для него недоступно, только пауза была слишком продолжительная, а для меня — прямо мучительная. Потеряв терпение, я стал дергать отца за фалду пиджака. Мои действия не ускользнули от наблюдательного взгляда Николая Сергеевича, усмехнувшегося своей исключительно обаятельной улыбкой. Собравшись, однако, с духом, отец очень нерешительно сказал Звереву:
— Я счел бы для себя за особое счастье, если бы вы приютили сына у себя. Не могу себе представить, как бы я мог устроить его, двенадцатилетнего мальчугана, в Москве, в чужом городе, не имея никого знакомых. Ко всему этому меня беспокоит и волнует, что до сих пор он никогда из дома не отлучался.
Задумавшись на мгновение, Николай Сергеевич просто ответил:
— Ну что ж! Попробую взять его к себе.
Нужно ли говорить, как я был счастлив, сколько радости доставил мне ответ Зверева.
Дня три я прожил с отцом в гостинице. За эти дни отец приобрел для меня все необходимые вещи, и я переехал на квартиру к Звереву.
Зверев жил в то время на Смоленском рынке в Ружейном переулке, в доме доктора Собкевича. Со Зверевым жила сестра его, старушка Анна Сергеевна, и два воспитанника-ученика: Леля Максимов (исключительно одаренный пианист, рано умерший от брюшного тифа) и Коля Цвиленев. Последний жил у Зверева недолго.
Отец мой был полуграмотным, а мать — совсем безграмотной. О воспитании я имел весьма примитивное понятие.
В домашней обстановке за мною почти никакого наблюдения не было. Все мы — я и мои братья — были в большинстве предоставлены самим себе, а потому и разрешение всяких “спорных” вопросов с товарищами происходило у нас очень просто: правым оказывался тот, кто сильнее.
С первых же дней пребывания у Зверева между мной и Лелей Максимовым возникли “спорные” вопросы.
Так как Максимов был моложе и слабее меня, то и правым, по моим понятиям, был я. Однако, когда Анна Сергеевна в моем присутствии рассказала Звереву о моих “приемах” разрешения “спорных вопросов”, Зверев тут же очень мягко, но тоном, не терпящим возражения, сказал:
— Так ведут себя дурные дети на улице. Я был очень далек от мысли, что ты способен вообще драться, а потому помни, что при первом же проявлении в будущем твоих “боевых” наклонностей нам придется с тобою расстаться, ты будешь выдворен восвояси и, конечно, в моем классе не останешься; думаю, что и из консерватории будешь исключен.
Нужно ли говорить, что за восемь лет моего пребывания у Зверева я по этой “боевой линии” ни одного замечания, ни одного упрека не получал, а с Лелей Максимовым мы жили как самые близкие, любящие родные братья.
В первое же время моего пребывания у Зверева ему пришлось дать мне еще один урок, которого мне не дала моя домашняя обстановка у родных. Сели мы как-то обедать. На закуску была подана паюсная икра. Я к ней не притронулся. На вопрос Зверева: “Почему не ешь икры?” — я ответил:
— Икры не люблю.
Не настаивая, чтобы я ел, Зверев сказал служителю Давиду:
— Давид, уберите икру!
На первое были поданы зеленые щи. Мне налили в тарелку, и я снова заявил, что зеленых щей не ем. Тем же спокойным тоном Зверев распорядился:
— Давид, уберите щи!
На второе подали мозговые котлеты. Оказалось, что мозговые котлеты мне тоже не по вкусу. Зверев, ни на йоту не изменив спокойного тона, сказал:
— Давид, уберите!
На сладкое приготовили кисель. От киселя я чувствовал щекотание в нёбе, а потому и от него отказался. По распоряжению Зверева Давид убрал и кисель.
Обед окончился. Все разбрелись по своим комнатам. Мне тоже ничего больше не оставалось делать, как последовать за другими. При входе в нашу детскую комнату мои товарищи встретили меня далеко не двусмысленными улыбками и ехидным вопросом:
— А что! Вкусно пообедал?..
На этом, однако, мои испытания не окончились. На следующий день меню обеда было точным повторением вчерашнего, и только вместо распоряжения: “Давид, уберите!” — Зверев после каждого блюда спрашивал: “А не хочешь ли еще?”
— Пожалуйста! Пожалуйста! — предупредительно спешил я ответить.
Зверев был для нас не только учителем-воспитателем, но и самым близким другом. Он не только думал о том, чтобы мы хорошо играли, но заботился о создании для нас условий, при которых и работа, и, главное, ее результаты могли быть более продуктивными.
У нас было подробное расписание. Каждый знал свои часы занятий и отдыха.
За сравнительно короткий промежуток времени с 1880—1881 по 1890—1891 годы через его руки прошли такие исключительно талантливые люди, как А. И. Зилоти, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Л. А. Максимов, Ф. Ф. Кенеман, А. Н. Корещенко, К. Н. Игумнов, Е. А. Бекман-Щербина, Е. В. Кашперова, С. В. Самуэль-сон, О. Н. Кардашева и многие другие. А ведь обучение талантливых детей ко многому обязывает.
Я знал и видел на своем веку много талантливых детей, которые или погибали, или, в самом лучшем случае, выходили рядовыми музыкантами, и это только вследствие неумелого или неправильного к ним подхода со стороны педагогов.
Говорить о Звереве как о педагоге-аналитике, то есть педагоге в самом широком смысле этого слова, конечно, не приходится. Самым ценным, чему он учил, это было — постановка рук. Зверев был положительно беспощаден, если ученик играл напряженной рукой и, следовательно, играл грубо, жестко, если при напряженной кисти ученик ворочал локтями. Зверев давал много, правда, примитивных упражнений и этюдов для выработки различных технических приемов.
Безусловно ценным в его преподавании было то, что с самого начала он приобщал своих учеников к музыке. Играть без ритма, безграмотно, без знаков препинания у Зверева нельзя было, а ведь в этом — весь музыкальный фундамент, на котором уже не трудно строить самое большое художественное здание.
От Зверева ученики обычно переходили (Зверев вел только младшие классы игры на фортепиано) к А. И. Зилоти, В. И. Сафонову, С. И. Танееву, П. А. Пабсту. Несомненно, у каждого из этих профессоров была своя система, свой метод, тем не менее учеников Зверева они охотно принимали — ведь каждому из них приятно было получить учеников, которых не нужно исправлять, переделывать, с которыми можно легко идти вперед. К Звереву попадали в большинстве случаев самые одаренные учащиеся.
Профессора, ведущие старшие классы, были сами заинтересованы, чтобы талантливые дети попадали к Звереву в стадии начального обучения, чтобы потом взять их к себе в класс, но уже с заложенным прочным музыкальным и техническим фундаментом.
Зверев умел заинтересовать детей, увлечь их разнообразным музыкальным материалом и, наконец, приучить к аккуратной работе. Прийти к Звереву с невыученным уроком было нельзя. Такой “смелый” ученик немедленно вылетал из класса.
Большим достоинством Зверева было то, что, разругав, как говорят, “вдребезги” ученика за неряшливо выученный урок, он умел тут же подойти к нему, и у того никакого осадка горечи не оставалось: каждый чувствовал правоту Зверева, и у каждого надолго пропадала охота вторично получить нагоняй и вылететь из класса.
Какой пианист был Зверев, мы не знаем. Когда мы жили у него, он уже сам пианизмом не занимался и, конечно, как пианист не только публично, но даже при нас играть не мог.
Суждения же его о пианистах и о музыке вообще были прежде всего очень строгие. Он прекрасно разбирался в слышанном и часто подвергал исполнение даже больших артистов жесточайшей справедливой и деловой критике. Его бывшие ученики С. М. Ремезов, А. И. Галли и даже А. И. Зилоти, слышавшие его, рассказывали, что Зверев был превосходным, очень изящным и музыкальным пианистом, с очень красивым звуком. Конкретно указывали на исключительно хорошее исполнение им Сонаты
cis-moll op. 27 Бетховена, а ведь это уровень, и очень высокий!В начале своих воспоминаний я указал, что ко времени моего поступления к Звереву у него было два воспитанника: Леля Максимов и Коля Цвиленев. Вскоре Цвиленев переехал в Петербург, а на его место у нас появился новый товарищ — Сережа Рахманинов. До переезда Рахманинова в Москву у Зверева в Москве по пути следования из Германии в Петербург побывал А. И. Зилоти.
В прошлом Зилоти был учеником и воспитанником Зверева. Ко времени, о котором я пишу (приблизительно 1884—1885 года), Зилоти появился в Москве уже как пианист с крупным европейским именем, прошедший школу великого маэстро — Франца Листа.
Для меня приезд в Москву Зилоти и знакомство с ним было полным откровением. Тот факт, что Зилоти, который сейчас живет у Зверева, под одной со мной крышей,— ученик, и любимый ученик Франца Листа, то есть человек, близко с ним соприкасавшийся, с ним разговаривавший, уже окружал для меня имя Зилоти листовским ореолом. Я с умилением разглядывал Зилоти.
В это время мы еще больших концертов не посещали и крупных артистов-пианистов не слыхали. Тем большим наслаждением было для нас услышать Зилоти в домашней обстановке.
Я не только ничего подобного не слыхал, но мне вообще такая игра казалась сверхъестественной, волшебной. Его изумительная виртуозность и блеск ослепляли, необыкновенная красота и сочность его звука, интересная, полная самых тончайших нюансов трактовка лучших произведений фортепианной литературы очаровывали. Концерты Зилоти были первыми, которые я в
своей жизни посетил. Никогда не забуду, как вся публика, в изумлении от звучания, поднялась с мест во время финала листовского “Пештского карнавала” (Девятая рапсодия), чтобы воочию убедиться — играет ли на фортепиано один человек или целый оркестр. Обаятельная внешность Зилоти и его исключительное пианистическое мастерство делали его положительно кумиром публики.Со своими концертами Зилоти поехал в Петербург, где жил и уже учился в консерватории Сережа Рахманинов. Как потом рассказывал сам Зилоти, к нему в Петербурге обратилась мать Рахманинова с просьбой послушать игру на фортепиано ее сына Сережи. Прежде чем исполнить ее просьбу, Зилоти решил спросить у директора консерватории К. Ю. Давыдова его мнение относительно Рахманинова.
Мнение было таково, что Сережа — мальчик “способный” (только способный!), хотя и большой шалун. Ничего особенного в его даровании Давыдов не усмотрел.
Такой отзыв директора консерватории — замечательного виолончелиста и композитора, крупнейшего авторитета — чуть не заставил Зилоти отказаться прослушать Сережу Рахманинова, его двоюродного брата.
Только настойчивые просьбы матери заставили, наконец, Зилоти почти перед самым отходом поезда в Москву заехать к Рахманиновым.
Прослушав Сережу, Зилоти тут же предложил родным взять его немедленно с собой в Москву к Н. С. Звереву. Таким образом, у Зверева, даже без всякого с ним предварительного согласования, появился новый ученик и воспитанник, а у нас с Максимовым — новый товарищ.
В Петербургской консерватории Рахманинов учился в классе преподавателя В. В. Демянского. Рахманинов не был особенно хорошо подготовлен технически, но то, что он уже тогда играл, было бесподобно.
Помню, как Зверев заставлял его всегда играть приходившим к нам профессорам консерватории и как они восторгались его дарованием.
По подготовке все мы приблизительно были на одном уровне и часто играли одни и те же вещи. Зверев был очень требователен и строг к учащимся вообще, а к нам, своим воспитанникам, особенно. Помню такой полукомический случай.
Рахманинов, Максимов и я играли один и тот же Второй концерт
As-dur Дж. Фильда. Пришли к Звереву в консерваторию на урок. Сел играть Рахманинов. Вначале все шло как будто гладко. Вдруг — стоп!— Ты что это играешь? — крикнул Николай Сергеевич.— Сыграй вот это место еще раз! — Рахманинов повторяет.— Опять врешь! Опять не так! Просчитай это место! — возвышает голос Николай Сергеевич.
— Нет, неверно!
Выйдя, наконец, из себя, Николай Сергеевич крикнул:
— Пошел вон!
На смену Рахманинову сел за рояль Максимов.
Когда он сыграл до того же злополучного места, с ним повторилась рахманиновская история, только с несколько иным финалом. Сидя на стуле возле играющего Максимова, Зверев так толкнул его стул ногой, что Максимов вместе со стулом опрокинулся и упал на пол.
Можно себе представить, с каким настроением я сел играть. Участь моих товарищей постигла и меня. Я тоже не мог выкарабкаться из этого злополучного места. Потеряв окончательное самообладание, Зверев выругался и крикнул:
— Сейчас пойду к директору
[Директором консерватории был тогда С. И. Танеев.] и потребую, чтобы всех вас, никуда не годных учеников, убрали из моего класса. Учитесь у кого хотите!.. Идемте!Зверев пошел вперед, а мы, понурив головы,— сзади. Привел он нас в профессорскую комнату. С. И. Танеева, к счастью, в ней не было, и Зверев велел нам ожидать его возвращения.
Профессорская своими застекленными дверьми выходила в длинный и широкий коридор, по которому все время взад и вперед шмыгали ученики и с любопытством нас разглядывали. Мы чувствовали себя очень неловко. Нам было стыдно, и, чтобы показать, будто мы не наказаны, а нас интересуют книги в шкафу, мы для видимости “внимательно” их рассматривали.
Взглянув случайно сквозь застекленную дверь на лестницу, ведущую на третий этаж и в класс Зверева, мы увидели, что по ней спускается Николай Сергеевич, а за ним, держа руки по швам, с опущенной головой идет его ученик Вильбушевич (впоследствии известный автор многих довольно популярных мелодекламаций). Вильбушевич играл тот же Концерт, что и мы, очевидно, с теми же погрешностями.
Едва Зверев появился на пороге профессорской в сопровождении Вильбушевича, как мы, совершенно не уславливаясь, не будучи в состоянии себя сдержать, одновременно громко расхохотались, так комичен был вид разъяренного Зверева и расстроенного Вильбушевича.
Наш смех был для Зверева так неожидан, что, остановившись на мгновение, как бы в недоумении, он отчаянно крикнул: “Вон отсюда!!!”
Нам только это и нужно было. Повторять приказа не пришлось. Мы, как бомбы, вылетели из профессорской.
В 1886 году Зверев тяжело заболел. Казалось, что ни о чем,
кроме своего здоровья, он думать не мог. Но он все же продолжал заботиться о нас. Предстояли весенние зачеты. Николай Сергеевич, опасаясь, что из-за его болезни мы не будем достаточно хорошо к ним подготовлены, разместил всех нас к разным педагогам, своим друзьям.Не помню сейчас, у кого занимались Рахманинов и Максимов, но меня Николай Сергеевич отправил к своему бывшему учителю, знаменитому в свое время пианисту и композитору Александру Ивановичу Дюбюку. Дюбюк был в то время глубоким стариком — ему было уже года семьдесят четыре.
Помню, что от всей обстановки его квартиры и от него самого веяло какой-то застоявшейся плесенью и пылью, как бывает в квартирах, которые долгое время не проветривались. Сам Дюбюк, по-видимому, тоже уж давно носа на свежий воздух не высовывал. Ходил он в стоптанных мягких домашних туфлях, в старом полинявшем и потертом халате, из кармана которого выглядывал громадный с красными разводами носовой платок. Папирос Дюбюк не курил, но зато нюхал табак, следы которого были у него особенно ясно видны под носом, а также на халате, о который он всегда после понюшки табака вытирал свои пальцы. Весь он был пропитан специфическим запахом нюхательного табака. Дюбюк был среднего роста, широкоплечий и тучный. Своим круглым, полным, гладко выбритым лицом, с хорошо сохранившимися волосами на голове он походил скорее на старую женщину, чем на мужчину.
По его внешнему виду никак нельзя было сказать, что он имеет какое-либо отношение к пианизму. Трудно было себе вообще представить его играющим на фортепиано.
Помню, что в программу, данную мне Зверевым, входили Этюд
A-dur № 18 Клементи — Таузига, Прелюдия из Английской сюиты g-moll Баха, Концерт As-dur Филь-да и этюд “Les mouches” самого Дюбюка.Обстановка квартиры и самый вид Дюбюка ни к какой художественности не располагали. С первого же урока, когда я во время непродолжительной паузы опустил левую руку на ногу, Дюбюк резко мне заметил:
— Ты бы уж лучше руку в карман клал и вынимал ее каждый раз, когда нужно играть!
Тут же он поднял меня с места у рояля и сел за него сам.
То, что я услыхал, так поразило меня, что я, затаив дыхание, с раскрытым ртом и удивленным лицом весь превратился в слух. Меня глубоко поразило то, что у этого тучного старика его толстые, как огурцы, пальцы бегали с такой легкостью и четкостью, а старый, вдребезги разбитый инструмент поразительно красиво пел. Заметив произведенное на меня его игрой впечатление, он самодовольно улыбнулся и снова посадил меня за рояль. Особый интерес представляла для меня его трактовка Концерта Фильда, который сам Дюбюк проходил еще с Фильдом. Он внес в его исполнение много интересных, даже не напечатанных в нотах деталей, а исполнение своего этюда
“Les mouches” просто поразил меня: я никак не мог себе представить, что в таком возрасте и при такой внешности можно было нарисовать такую картину полета и жужжания мух.Дюбюк вообще, я заметил, очень охотно садился за рояль, чтобы показать каждую фразу, которая его в моем исполнении не удовлетворяла. Не удовлетворяло же его многое, ибо — это чувствовалось — он пользовался всяким малейшим поводом, чтобы остановить меня и самому поиграть.
Помню, что на экзамене я получил отличную отметку и исполнение мною Концерта Фильда было замечено. Рахманинов даже сказал:
— Да ты просто герой Концерта Фильда!
Я, конечно, и теперь не представляю себе — как можно быть “героем”-исполнителем и возможно ли это вообще. Но я склонен считать рахманиновское выражение детским определением моего неплохого исполнения Концерта Фильда, чем я был, конечно, обязан прежде всего замечательному таланту Дюбюка.
При всей своей колоссальной загруженности Зверев никогда не считался со временем, уделяемым им своим ученикам. За все годы моего пребывания у Зверева в классе я ни разу не ездил на летние каникулы домой к своим родным. Летом он выезжал со всеми нами на подмосковную дачу, ездили в Кисловодск (один раз) и в Крым (один раз).
Для наших занятий Зверев всегда возил инструмент на дачу и летом занимался с нами, требуя при этом, чтобы мы работали, как и зимой. Особенно памятной для меня осталась поездка в Крым, где мы жили в имении друзей Зверева, Токмаковых,— Симеиз. Кроме самого Зверева, нас троих и повара Матвея, с нами жил преподаватель консерватории Н. М. Ладухин, который обучал нас теории.
Пребывание в Симеизе осталось у меня в памяти главным образом из-за Рахманинова. Там он впервые начал сочинять. Как сейчас помню, Рахманинов стал очень задумчив, даже мрачен, искал уединения, расхаживал с опущенной вниз головой и устремленным куда-то в пространство взглядом, причем что-то почти беззвучно насвистывал, размахивал руками, будто дирижируя. Такое состояние продолжалось несколько дней. Наконец, он таинственно, выждав момент, когда никого, кроме меня, не было, подозвал меня к роялю и стал играть. Сыграв, он спросил меня:
— Ты не знаешь, что это?
— Нет,— говорю,— не знаю.
— А как,— спрашивает он,— тебе нравится этот органный пункт в басу при хроматизме в верхних голосах?
Получив удовлетворивший его ответ, он самодовольно сказал:
— Это я сам сочинил и посвящаю тебе эту пьесу.
Впоследствии Рахманинов посвятил мне одно из крупных своих произведений — Сонату для фортепиано ор. 36.
Чтобы иметь почти полное представление о Звереве как человеке редкой души, необходимо указать на его исключительное бескорыстие.
Зверев руководил самым большим по количеству учащихся классом. При получении месячного жалованья вместо денег Звереву вручали оплаченные за его счет квитанции по уплате за право учения бедных учеников. В отношении своих учеников-воспитанников его бескорыстие совершенно не имело границ.
Когда, например, он выразил согласие взять меня к себе на воспитание, между ним и моим отцом не было ни слова сказано о материальной стороне дела. Отец мой в первое время, насколько ему позволяли средства, ежемесячно высылал Звереву какую-то сумму денег. Лишившись службы, он написал мне, что в дальнейшем платить за меня Звереву ничего не может. Конечно, я совсем растерялся и не знал, как поступить. Самому мне и в голову не приходило, чтобы я мог остаться жить у Зверева бесплатно. Когда вечером Зверев приехал домой обедать, Анна Сергеевна доложила ему, что я получил сегодня письмо от отца и... плакал. Николай Сергеевич потребовал у меня письмо, которое я, обливаясь горькими слезами, дал ему. Прочитав письмо, Зверев крайне возмущенно сказал:
— Разве я когда-нибудь что-нибудь говорил твоему отцу о деньгах? Он посылал мне, сколько мог, и если теперь посылать не в состоянии, должен был об этом написать мне, а не тебе. Вот как!.. А ты чего ревешь?.. Можешь написать отцу, что мне его деньги не нужны, а тебе уезжать из Москвы тоже незачем. Будешь у меня жить по-прежнему. Вот и все!
Таким образом, получилось, что никто из нас троих — воспитанников Зверева — ему ничего не платил.
Никогда больше после этого Зверев не касался материальной стороны. Между тем он затрачивал на нас громадные средства. Живя у Зверева, мы не платили ни за квартиру, ни за питание. Больше того, он взял на себя всю заботу о нашей одежде, оплачивал педагогов по всем предметам общего образования, по французскому и немецкому языкам.
Учили нас на средства Зверева и танцам. Каждое воскресенье мы ездили в один дом, где были четыре девицы, ученицы Зверева, с которыми мы и должны были танцевать. Все мы танцевать очень не любили и с большой неохотой занимались, они положительно отравляли наши воскресные “дни отдохновения”.
С другой стороны, бегать на коньках нам не разрешалось. Зверев боялся, чтобы при случайном падении мы не повредили себе рук. По той же причине нам запрещалась верховая езда и гребля на лодке.
Наконец, у нас была, также оплачиваемая Зверевым, учительница музыки, в обязанности которой входило играть с нами по два раза в неделю по два часа литературу для двух роялей в восемь рук. Игра на двух роялях в восемь рук несомненно развивала нас, расширяла наш музыкальный кругозор, и мы с большим удовольствием ею занимались. Нами были переиграны чуть ли не все симфонии Гайдна, Моцарта и Бетховена, увертюры Моцарта, Бетховена, Мендельсона. Самыми любимыми произведениями для нас были симфонии Бетховена. Впоследствии нашим четвертым партнером был также ученик Зверева — С. В. Самуэльсон.
В ансамблевой игре мы достигли такого совершенства, что могли исполнять наизусть в восьмиручном переложении целые симфонии Бетховена.
После одного из весенних экзаменов класса Зверева Николай Сергеевич предложил экзаменационной комиссии под председательством директора консерватории С. И. Танеева прослушать в нашем восьмиручном исполнении симфонию Бетховена. Предложение Зверева было охотно принято.
Я никогда не забуду позы и выражения лица С. И. Танеева, когда он увидел, что мы вчетвером подошли к инструментам, сели за них и... перед нами не было нот. Он положительно вскочил с места и с ужасом спросил:
— А ноты?
Совершенно спокойно Зверев ответил:
— Они играют наизусть.
Мы сыграли Пятую симфонию Бетховена.
Хорошо ли, плохо ли мы играли — не помню, только С. И. Танеев никак не мог успокоиться и все твердил:
— Да как же так?! Наизусть?!
Чтобы его окончательно “доконать”, Зверев велел нам сыграть еще Скерцо из Шестой симфонии Бетховена, что мы с таким же успехом и исполнили.
В наших занятиях был исключительный порядок. Так как нам нужно было играть всем троим, а оба рояля стояли в одной комнате, приходилось придерживаться установленного расписания. Начинать играть нужно было в шесть часов утра. Зимой это происходило при двух лампах-молниях, применявшихся не только для освещения, но и для тепла. Делали мы это по очереди. Каждому из нас приходилось два раза в неделю вставать раньше всех и садиться играть в шесть часов утра. Самым тяжелым в этом расписании было то, что никакие объективные обстоятельства во внимание не принимались.
Если мы были в театре и после театра ездили в трактир ужинать и поэтому возвращались домой в два-два с половиной часа ночи,— все равно на следующий день строго должны были выполнять свои обязанности. Тот, чья очередь наступала, обязан был встать в свое время и в шесть часов утра уже сидеть за инструментом.
На этой почве часто бывали довольно крупные “недоразумения”. Садясь за инструмент в полусонном состоянии, воспитанник Зверева играл, конечно, не очень уверенно, подчас с ошибками, спотыкаясь, вяло. Такая игра будила Зверева, и появление его грозной фигуры в одном белье, с соответствующим окриком, а подчас и чувствительным рукоприкладством заставляла играющего сразу забыть о сне.
Больше всего Зверев боялся, чтобы мы, воспитанники, пользуясь его авторитетом и влиянием в консерватории, не прятались за его спиной. В этом отношении он способен был перегнуть палку и дойти даже до несправедливости, лишь бы никто не только не сказал, но даже и не подумал, что мы, пользуясь зверевской защитой, можем себя вести как угодно. Это в одинаковой степени относилось как в самим занятиям, так и к нашему поведению в консерватории и у других педагогов.
Ясно, как сейчас, помню случай, когда Зверев положительно избил меня только за то, что на меня поступила к нему жалоба одного педагога на якобы дурное поведение мое во время его урока. Зверев сильно ударил меня в присутствии пожаловавшегося на меня педагога, не дав мне слова сказать в свое оправдание. Самый факт поступления жалобы на его воспитанника был достаточен, чтобы он так резко на него реагировал. Зверев тем не менее на этом не остановился и не успокоился. Он пошел в класс, где этот инцидент произошел, спросил всех учащихся, бывших со мною на уроке, и, убедившись, что в моем поведении ничего предосудительного не было, что моя усмешка, принятая педагогом на свой счет и обидевшая его, относилась к скорчившей смешную гримасу ученице,— так отчитал этого педагога, что у него, вероятно, навсегда пропала охота жаловаться.
Я, правда, пострадал, но всем было определенно ясно, что Зверев в своих “зверятах”, как нас называли, дурного поведения и дурных наклонностей не поощряет.
Осознав жестокость своего поступка, Зверев тут же в обращении со мной нашел тот ласковый и искренний тон, который сразу заставил меня примириться с ним и забыть нанесенную мне горькую обиду.
Зверев очень строго следил за нашим посещением занятий и за успехами по всем теоретическим и общеобразовательным предметам. Нередко бывало, что он наводил о нас справки у соответствующих педагогов, и боже упаси, если справки эти были не вполне благоприятными!
На всех наших экзаменах по всем дисциплинам он обязательно присутствовал.
Еще со времени директорства Н. Г. Рубинштейна в консерватории работал в качестве профессора церковного пения и преподавателя закона божьего знаменитый протоиерей Д. В. Разумовский, большой знаток церковного пения.
Судя по тому, как он вел занятия по закону божьему, его можно было считать вполне культурным, передовым человеком, и легко допустить, что рясу он носил по явному недоразумению. Разумовский резко отличался от других попов, которые вполне сознательно дурачили в школах детей.
Исключительные душевные качества протоиерея Разумовского и его ум привлекали к нему симпатии всех учащихся. Система преподавания закона божьего Разумовским была больше чем своеобразна.
На уроках Разумовского ученики могли делать все, что им вздумается, и заниматься всем, чем хотели. Батюшка вел с ними беседы на какие угодно темы. О самом предмете — законе божьем — протоиерей Разумовский, конечно, тоже говорил, но учащихся почти не спрашивал. Перед окончанием четверти каждому ученику необходимо было иметь отметку, а потому им уж самим приходилось напрашиваться на вызов. Тут-то и происходили совершенно исключительные курьезы.
Вызванный, вернее, напросившийся на вызов ученик, подойдя к столу батюшки, по обыкновению даже не знал, с чего же ему начать рассказывать. Доброжелательный и добродушный батюшка сам начинал беседу с наводящих вопросов, а затем постепенно переходил к рассказу всего заданного урока, не затрудняя уже ученика ни одним вопросом.
По окончании “спроса” батюшка обычно говорил:
— А ведь ты, милый, ничего не знаешь. И вот тебе за это... единица.
И ставил в журнале единицу.
Обиженный якобы такой оценкой своих “знаний” ученик немедленно вступал в объяснения с учителем.
— Да как же, батюшка, вы ставите мне единицу, когда я так старался выучить для вас урок? Ведь я несколько раз все прочитал!
— Правду говоришь, что занимался и все читал? — добродушно спрашивает учитель.
— Конечно, батюшка, правду!
— Ну что же! На тебе за это двоечку.
Двойка, конечно, ученика не удовлетворяла, и он снова начинал “торговаться” и доказывать, что весь урок прекрасно знает, что только строгость батюшки и происходящее от этого волнение помешали ему хорошо, даже отлично ответить.
— А ты все же правду скажи: знаешь урок?
— Конечно, знаю.
— Ну хорошо, бог с тобой: вот тебе троечка!
Единица, казалось, так не возмутила ученика, как эта троечка. С чувством оскорбленного достоинства ученик гордо заявляет:
— Стоило столько трудиться, чтобы получить тройку! Лучше бы я совсем не занимался и не отвечал, чем столько работать! Столько работать! И получить тройку. Ведь это прямо обидно.
— Неужели обидно? — сочувственно спрашивал батюшка.— Ну что ж! Вот тебе самая хорошая и по заслугам отметка — четверка!
Тройка исправляется на четверку.
Войдя во вкус, ученик уже и такой отметкой не удовлетворяется и последним, по обыкновению, аргументом приводит, что четверка портит ему все отметки.
— У меня, батюшка, по всем предметам круглые пять, и вдруг по такому “важному” и “самому любимому” предмету, как закон божий,— будет четверка! — Тут уж ученик взмолился: — Батюшка! Поставьте мне пятерку, пожалуйста!
— Ну, бог с тобой! На тебе пятерку!
Четверка действительно исправлялась на пятерку. Учитель и ученик мирно расходились, и на сцену выступал другой ученик.
Картина повторялась заново, и, пожалуй, с очень незначительными вариантами.
Вспоминается мне такая сцена перед одним из экзаменов по закону божьему. Протоиерея Разумовского окружила целая группа учащихся, которая заявила — вернее, заявлял каждый из учеников в отдельности,— что к экзамену по “закону”, вследствие большого количества экзаменов по другим предметам, не подготовился, что знает только первый билет и просит разрешения его отвечать. Все получили разрешение. Начался экзамен. Подходит к столу первый ученик, вытягивает билет и без всякого смущения протягивает его батюшке. Экзаменатор спрашивает:
— Какой у вас билет?
— Первый,— смело отвечает ученик.
Конечно, у него был не первый билет. Тем не менее ученик отвечает по первому билету.
Подходит второй, вытягивает билет, передает его батюшке и на вопрос экзаменатора: “Какой у вас билет?” — тоже отвечает: “Первый!” За вторым последовал третий, за третьим — четвертый и т. д. У всех были, конечно, первые билеты. Тут уж член экзаменационной комиссии, историк А. П. Шереметьевский, не выдержал и, приложив ладонь левой руки ко рту и подперев ею свой иссиня-красный нос, гнусавым голосом спросил:
— А что, батюшка, у вас много первых билетов?
— На всех, милый, хватит! На всех!
Экзаменуется по катехизису Рахманинов. Зверев, конечно, и здесь присутствует.
Рахманинову было предложено назвать всех евангелистов. Назвав трех, Рахманинов забыл имя четвертого. Сидевший у стола Зверев немедленно поспешил на помощь своему ученику и воспитаннику.
— А ты, Сережа, не знаешь, где сейчас Пресман? — спросил он невинно Рахманинова.
Совершенно, казалось бы, некстати заданный Зверевым вопрос напомнил Рахманинову имя четвертого евангелиста, и, не отвечая ничего на вопрос Зверева, он назвал евангелиста Матфея.
Вспоминаю еще один, скорее комический, чем трагический инцидент, который разыгрался со всеми нами.
У Зверева было так много уроков, что он вынужден был начинать их с восьми часов утра, за час до начала занятий в консерватории. В половине восьмого мы вместе с Николаем Сергеевичем пили наш утренний кофе, вернее, “кофейный запах”, как его называл сам Зверев, ибо кофе нам наливалось меньше четверти стакана, остальное доливалось кипятком и сливками. После кофе все мы выходили в переднюю, наряжали Зверева в громадную енотовую шубу, шею повязывали кашне, на голову напяливали бобровую шапку, а на ноги — высокие боты.
Проводив Николая Сергеевича на парадную лестницу (мы жили на втором этаже), все мы на этот раз пошли в столовую, так как крайне были заинтересованы рецензией в газете о каком-то концерте. Между тем, согласно расписанию, один из нас должен был садиться играть, а двое других — идти в свою комнату и заниматься приготовлением других уроков. Взобравшись коленями на стулья, мы улеглись локтями на стол. Рахманинов начал читать, а я и Максимов слушали. Вдруг, о ужас! В столовой тихо появляется грозная фигура Зверева с окриком:
— Так-то вы занимаетесь!
Все мы бросились врассыпную, а Зверев в енотовой шубе, в шапке и ботах — за нами. Не помню уж, поймал ли он кого-нибудь из нас, но страху было много, перетрусили мы здорово.
Не меньше, однако, было смеху, когда сам Николай Сергеевич в ближайшее воскресенье рассказывал об этом всем нашим товарищам и случайно бывшему у нас П. И. Чайковскому, иллюстрируя наше бегство и его преследование нас в енотовой шубе, бобровой шапке и высоких ботах. Оказалось, что из-за желания скорее прочитать рецензию в газете, проводив Зверева и поспешив обратно в столовую, мы забыли наложить крючок на дверь. Зверев вернулся. Дверь не была закрыта. Он свободно вошел и... “накрыл” нас.
Наше расписание занятий все же было составлено так, что, кроме воскресных дней, совершенно для нас свободных, у нас и в будние дни были свободные часы, а вечера свободны всегда.
Если мы не ездили в концерт или в театр, то, сидя дома, играли в винт. Нашим постоянным четвертым партнером была сестра Зверева — добрая старушка Анна Сергеевна. С нею у нас были постоянные недоразумения, которые в первое время вызывали споры, в особенности со стороны вспыльчивого и горячего Лели Максимова.
К недоразумениям этим мы в конце концов привыкли и перестали обращать на них внимания. Происходили они главным образом оттого, что Анна Сергеевна никак не могла понять назначений своего партнера и не могла найти нужных выражений, чтобы, не называя карт, ясно показать ему, в чем заключается ее поддержка.
Будучи в этом отношении совершенно беспомощной, она начинала ерзать на стуле, перекладывать карты из одной руки в другую, делать ртом гримасы и как бы про себя говорить:
— Ну вот! Опять я и не знаю! Как же мне сказать, если у меня... бубновый туз?
Еще хуже обстояло дело при разыгрывании партии. Не зная, с чего выйти или чем ответить партнеру, она снова начинала ерзать на стуле, извиваться, но извиваться так, чтобы как-нибудь заглянуть в карты своим двум противникам — справа и слева.
Конечно, материальных интересов ни у кого из нас не было — мы на деньги не играли. Чтобы не конфузить Анну Сергеевну, мы делали вид, будто не замечаем ее манипуляций.
Все мы, мальчики, были очень увлекающимися. Каждый из нас ухаживал за кем-нибудь из учениц консерватории.
Часто в свободные от концертов и игры в винт вечера мы говорили о своих симпатиях, поддразнивая друг друга. Мы с Максимовым были на этот счет более откровенны, а вот с Рахманиновым дело было гораздо труднее. Он был очень скрытен, и нам с Лелей Максимовым приходилось прикладывать много стараний, чтобы узнать, кто же, наконец, симпатия Рахманинова, за кем он ухаживает? Чем труднее было разгадать его тайну, тем больше мы потом торжествовали.
Однажды я с большой горечью рассказал моим товарищам о постигнувшей меня “неудаче”. На мою долю выпало “большое счастье” — при выходе из консерватории я столкнулся со своей симпатией А., тоже ученицей Зверева. Вышли вместе из консерватории. У самых ворот стоит лихач. Вот, подумал я, было бы хорошо прокатить ее на лихаче домой!
К несчастью, в кармане у меня было только двадцать копеек! Провожать А. пешком было далеко. Я рисковал опоздать к обеду домой, и мне с грустью пришлось с моей симпатией проститься.
Своей неудачей я поделился вечером с Максимовым и Рахманиновым. Оба они выразили мне свое глубокое “соболезнование”. Тем не менее прошло немало времени, прежде чем они перестали надо мною подтрунивать.
При нашем разговоре по обыкновению присутствовала Анна Сергеевна. Мы не стеснялись говорить при ней все открыто. Так было и на сей раз. Когда вечером Зверев приехал обедать, Анна Сергеевна взяла да все ему про лихача, про двугривенный и про А. и выложила.
— Знаешь, Николай,— сказала она.— Мотя хотел сегодня прокатить на лихаче свою симпатию А., да у него в кармане нашлось всего двадцать копеек, так и пришлось ему, бедненькому, пешочком пробежаться.
Все весело расхохотались, а я, смутившись, густо-густо покраснел.
Совершенно неожиданно веселым тоном Зверев сказал:
— Жалко, жалко мне тебя, Мотя! Только ты не очень огорчайся. Вот тебе пять рублей. Спрячь их и, если встретишь еще раз А., прокати ее на лихаче. Ничего, это можно. Ведь она хорошая ученица!
Зверев работал страшно много. Свои занятия, частные уроки, как я уже сказал, он начинал с восьми часов утра, то есть за час до консерваторских занятий. С девяти до двух часов дня он занимался в консерватории, а с двух до десяти вечера разъезжал по частным урокам, причем в некоторых семьях его кормили. После десяти часов вечера он приезжал домой “обедать”.
Ко времени его приезда все наши занятия заканчивались, а также заканчивалась игра в винт. Обязанностью нашей было сидеть возле него и занимать рассказами. Такая обстановка имела, конечно, место, когда все обстояло благополучно, и совсем не имела места, если Зверев был кем-нибудь из нас недоволен. Его недовольство мы чувствовали моментально. В первое время нас поражало и удивляло, когда Анна Сергеевна без всякого, казалось, основания говорила кому-нибудь из нас:
— А знаешь, ведь Николай Сергеевич тобою недоволен!
Мы никак не могли понять — откуда она это берет? Все мы видели, что Николай Сергеевич ни о ком из нас, да и вообще ни о чем с нею не говорил.
Впоследствии секрет этот мы открыли сами — он был очень прост. Будучи недоволен кем-нибудь из нас, Зверев во время еды и между едой, ни на кого в общем не глядя, бросал злобные взгляды на провинившегося. Перехватив эти взгляды, мы узнавали, кем Николай Сергеевич недоволен. Когда Зверев был нами доволен, все обстояло благополучно. Мы после ужина вместе с ним отправлялись в его комнату. Сначала он умывался. Потом мы помогали ему раздеться и лечь в постель. Пока он курил закуренную кем-нибудь из нас для него папиросу, повар Матвей представлял счета расходов за день. Если все кончалось благополучно (случалось, что счета летели Матвею в голову, и тогда мы спешили поскорее незаметно убраться восвояси), мы поворачивали его на бок, подкладывали за спину, под бока и под ноги одеяло и целовали его в щеку. Затем он говорил: “Ле (то есть Леля Максимов), Се (то есть Сережа Рахманинов), Мо (то есть я), как приятно...” — а мы обязательно хором прибавляли: “протянуть ножки после долгих трудов”,— гасили свет и уходили спать в свою комнату.
Зверев не выносил лжи, и достаточно было одного такого факта, чтобы он перестал лжеца-ученика у себя принимать и запрещал нам общение с ним. Вообще все наши товарищи очень тщательно им “профильтровывались”. Стоило ему заметить, что мы приблизили к себе кого-либо из учащихся консерватории, которого он по тем или иным соображениям считал не вполне подходящим,— он немедленно это сближение аннулировал.
У нас образовался целый кружок товарищей исключительно из его учеников, настоящих и бывших, которые приходили к нам по воскресеньям.
В воскресенье (это был наш, как говорил Зверев, “день отдохновения от трудов”) у нас всегда был званый обед. В этот день мы были хозяевами положения и предоставлены сами себе. Зверев ни во что не вмешивался. Мы музицировали, играли в две, четыре и восемь рук.
Здесь впервые стали играть свои сочинения Скрябин и Рахманинов. Помню, с какой строгой критикой мы встретили в особенности произведения Скрябина. Ведь в то время никому из нас, да, и уверен, и самим Рахманинову и Скрябину, не приходила в голову мысль, что в будущем они займут выдающееся положение на мировой арене музыкального искусства.
Я совершенно ясно вспоминаю, что с самого раннего возраста оба они друг друга не любили, и с течением времени неприязнь эта не уменьшалась, а увеличивалась.
Только после неожиданной и преждевременной смерти Скрябина Рахманинов сделал одну концертную программу из скрябинских сочинений, чем, конечно, почтил его память. Скрябин же, я уверен, ни одного рахманиновского произведения во всю свою жизнь не выучил и публично не сыграл.
Трудно себе представить людей, более различных по индивидуальности, чем Скрябин и Рахманинов. Лично меня в дальнейшем больше всего поражало то, что в их творчестве, как и в характере, и во внешности, не было ничего общего.
Громадного роста, с крупными чертами аскетически сухого, бритого, всегда бледного лица, суровым взглядом, коротко подстриженными на большой голове волосами, длинными руками и пальцами, дающими возможность свободно брать аккорды в пределах дуодецимы, грубым с басовым оттенком голосом, Рахманинов резко отличался от небольшого ростом, худенького и хрупкого, с хорошей, всегда тщательно причесанной шевелюрой волос на небольшой голове, круглой бородкой и большими усами, мелкими чертами лица, бегающими небольшими глазами, небольшими, чрезвычайно изнеженными руками и тонким теноровым голосом Скрябина.
Я не раз шутя говорил и Скрябину и Рахманинову, что своим внешним видом оба они вводят в заблуждение публику, ибо сильный драматизм, смелые дерзания, блеск и темпераментность музыки Скрябина (главным образом в его крупных оркестровых произведениях) никак не вяжутся с его, если можно так сказать, лирически-теноровой внешностью, и наоборот, лиризм и задушевность музыки Рахманинова не подходят к его суровому внешнему виду.
Я вспоминаю один, хотя и мелкий, но весьма характерный для Скрябина факт. Дело было в 1911 году в Ростове-на-Дону, где Скрябин в это время концертировал. У него был свободный вечер, и мы условились, что после окончания моих занятий, в восемь часов вечера, я буду ожидать его у себя, чтобы вместе пойти в кинотеатр. Ровно в восемь часов Скрябин был у меня, и мы с ним ушли. В то время программа в кинотеатрах состояла из двух отделений — сначала шла какая-нибудь большая видовая или “сильно драматическая” картина, а вторая — обязательно маленькая — комическая. Я предложил Скрябину пойти в самый лучший в городе театр, но Скрябин под предлогом, что в другом театре ему первая картина, хотя бы по названию, кажется более интересной, просил пойти туда. Так как у меня, кроме желания показать Скрябину лучший театр, никакой другой цели не было, то я не стал с ним спорить, и мы пошли в другой театр. Просмотрели первую картину. Началась вторая — комическая. С самого начала второй картины Скрябин стал мне говорить: “А вот сейчас то-то будет, а вот сейчас он через забор прыгнет” и т. д. Меня это удивило, и я, естественно, спросил:
— А ты откуда знаешь, что дальше будет? Сначала он ничего не сказал, а потом, громко рассмеявшись, открылся:
— Мне,— говорит он,— было скучно до восьми часов ждать, пока ты освободишься, делать было нечего, а кино я очень люблю, вот я и пошел в тот театр, куда ты хотел меня повести. Там вторая картина, комическая, была та же, что и здесь, вот почему я знаю содержание.
Скрябин мог с удовольствием слушать на какой-нибудь открытой сцене весьма легкомысленные и, конечно, малосодержательные в музыкальном отношении песни и совершенно искренне им аплодировать. Если он случайно попадал на какую-нибудь молодежную вечеринку, он мог весело резвиться, играть в фанты и т. д., ни от кого не отставая.
Рахманинов и в обыденной жизни был иным, чем Скрябин. Мне все же часто казалось, что его внешняя суровость была неестественной, напускной, деланной.
В моей жизни был очень памятный случай, когда Рахманинов проявил себя в полной мере, и именно таким, как я о нем говорю. Его внешняя суровость была напускной, она шла у него не от сердца, а от головы.
Это было в конце 1911 года. Рахманинов занимал тогда высший в России музыкально-административный пост — помощника председателя по музыкальной части главной дирекции Русского музыкального общества. Я был тогда директором музыкального училища Русского музыкального общества в Ростове-на-Дону.
У меня произошел крупный конфликт с местной дирекцией, состоявшей из так называемых “меценатов”, богачей, которые должны были, по строгому смыслу устава Русского музыкального общества и по мысли составителя устава А. Г. Рубинштейна, оказывать музыкально-учебным заведениям этого Общества, то есть музыкальным классам, музыкальным училищам и консерваториям, материальную поддержку. Вот с этими-то толстосумами, пытавшимися вмешиваться в руководимое мною дело, требовавшими непроизводительных, ненужных и вредных для дела затрат, но ничем материально училищу не помогавшими, у меня произошла ссора.
Главное, что кровно обидело и задело за живое нашу дирекцию, было — как мог я, директор музыкального училища, получающий “у них” жалованье, значит, по их понятиям, “подчиненный им”, “их служащий”, позволить себе сказать им же, что не признаю за ними права вмешиваться в дело, которому они материально не помогают и тем самым не выполняют своей главной функции.
Мои богатые меценаты, фабриканты и банкиры, очень обиделись и подали на меня жалобу в главную дирекцию Русского музыкального общества.
В это время в Ростове-на-Дону был объявлен концерт Рахманинова. Дня за два, за три до концерта в музыкальном училище был получен из Петербурга от главной дирекции пакет на имя Рахманинова, а кроме того, мне и местной дирекции оттуда же было прислано извещение, что Рахманинову поручается расследование всего моего с дирекцией конфликта.
Сам Рахманинов о предстоящей ему в Ростове-на-Дону роли судьи, очевидно, ничего не знал, так как на следующий день я получил от него телеграмму с извещением о времени приезда и просьбой встретить его.
Встретить Рахманинова, моего самого большого друга, с которым мы чуть ли не семь лет жили как родные братья, в одной комнате, было большой радостью, но... когда я узнал, что Рахманинов приезжает сюда не в качестве моего друга, а судьи или, может быть даже прокурора, я встречать его, конечно, не поехал.
Как потом Рахманинов мне говорил, мое отсутствие на вокзале очень огорчило его, но приехав в гостиницу и просмотрев мое дело, присланное ему из главной дирекции, он тут же подумал, что я поступил правильно.
Ознакомившись с материалами, Рахманинов немедленно вызвал к себе в гостиницу председателя и помощника председателя дирекции. Подробно переговорив с ними, он потребовал, чтобы в тот же день вечером было созвано заседание дирекции в полном составе, то есть со мною.
Вечером Рахманинов приехал в музыкальное училище на заседание, и здесь мы впервые с ним встретились. В присутствии дирекции он едва протянул мне руку (дирекция прекрасно знала о нашей с Рахманиновым близкой связи с детских лет), а обращаясь ко мне с вопросами, избегал местоимения “ты”, стараясь говорить в третьем лице. Только тогда, когда все дело было им самим детальным образом разобрано, суровые черты лица Рахманинова разгладились, он ласково и любовно посмотрел на меня, подошел и сказал:
— А теперь поведи меня к себе и угости стаканом чаю.
С дирекцией он простился холодно. Когда мы шли ко мне, Рахманинов, держа меня под руку, с необыкновенной мягкостью и искренностью сказал:
— Ты представить себе не можешь, с каким ужасом я приступил к рассмотрению твоего конфликта с дирекцией. Зная тебя, я чувствовал, что ты не можешь быть виноват. Тем не менее я очень волновался: а вдруг ты и в самом деле что-нибудь натворил? Хватит ли у меня тогда сил вынести тебе обвинительный приговор? Теперь я бесконечно счастлив, что могу открыто обнять тебя, поцеловать и сказать, что во всем этом склочном и грязном деле ты для меня чист, как голубь. С чистой совестью я могу тебя всюду защищать.
Этот факт дает мне право утверждать, что сдержанность, кажущаяся холодность и даже суровость Рахманинова — не настоящие.
Между прочим, из письма ко мне А. Н. Скрябина от 19 января 1912 года видно не только отношение к этому моему делу Рахманинова, но и взгляд на него самого Скрябина. Вот что он мне писал из Москвы:
“...Вчера я был у Рахманинова и передал ему все, что знал о твоих неприятностях с дирекцией... Рахманинов принимает все это очень близко к сердцу и еще раз подтвердил мне свое намерение сделать все возможное для твоего удовлетворения... С Зилоти еще увидимся, он дирижирует здесь 24-го. С ним тоже буду говорить о твоем деле. Ты не можешь себе представить, дорогой мой, как оно меня задело и как мы все желаем скорого и благополучного исхода для тебя в этой поистине возмутительной истории! Чтобы им всем скиснуть!..
Искренне любящий тебя А. Скрябин”.
В жизни каждого человека материально-бытовые условия играют громадную роль и несомненно отражаются на качестве и продуктивности его творчества. Вот эти-то условия у Скрябина и Рахманинова были совершенно различны.
В ранней юности о Скрябине заботились ближайшие родственники, о Рахманинове — Зверев и Зилоти.
В зрелом возрасте, когда забота о средствах к жизни легла на них самих, положение Рахманинова стало сразу несравненно лучше, чем Скрябина, и вот почему.
Рахманинов в своем лице совмещает композитора, пианиста и дирижера, причем и как композитор Рахманинов гораздо более разносторонен и разнообразен, чем Скрябин.
В то время как Скрябин писал почти исключительно для оркестра или фортепиано соло (исключение составляет Концерт для фортепиано с оркестром), Рахманинов написал массу вокальных (хоровых и сольных) произведений, три оперы, камерные произведения (Трио для фортепиано, скрипки и виолончели, посвященное памяти великого художника П. И. Чайковского, и Сонату для фортепиано и виолончели), две сюиты для двух фортепиано, массу фортепианных произведений, четыре концерта для фортепиано с оркестром, много крупных оркестровых произведений и другие.
Скрябин как пианист, вследствие своих незначительных технических данных, да пожалуй, и в силу того, что он никогда, конечно, после школьной скамьи не играл чужих произведений, карьеры пианиста сделать не мог. У него не было большого пианистического виртуозного размаха, наконец, у него не было настоящего полного и сочного звука, которым можно было наполнить большой зал. Бесподобно в то же время Скрябин играл в небольшом помещении, в тесном интимном кружке.
Рахманинов же, как все мы знаем, считается в настоящее время единственным во всем мире пианистом, стоящим вне конкурса и вне сравнения с кем-либо. Каждый концерт его оплачивается чуть ли не десятками тысяч рублей золотом.
Скрябин как дирижер себя совсем не проявил.
Помню, как-то в дружеской беседе он пожаловался мне на свое тяжелое материальное положение. Я спросил:
— А почему бы тебе не попробовать выступить в качестве дирижера хотя бы своих произведений? Ведь ими публика очень интересуется, и твое появление на эстраде за дирижерским пультом вызвало бы большой интерес. Не сомневаюсь, что и материально ты бы значительно улучшил свое благосостояние.
На мое предложение Скрябин совершенно искренне и просто ответил:
— Ты, может быть, и прав, но... я никогда в жизни не дирижировал и даже боюсь взять в руку дирижерскую палочку.
В другой раз я спросил у Александра Николаевича.
— Почему ты не пишешь романсов для пения? Ведь романс — один из интереснейших видов творчества — материально очень выгоден для издателя, а следовательно, и для композитора.
И на этот мой вопрос я получил отрицательный ответ.
— Я не могу,— сказал мне Александр Николаевич,— писать романсы на чужой текст, а мой — меня не удовлетворяет.
Я считаю очень уместным рассказать здесь один эпизод из артистической жизни Рахманинова, который я знаю лично от него.
Когда имя Рахманинова было уже хорошо известно не только у нас в России, но и за границей, владелец богатейшего и крупнейшего концертного агентства в Берлине Герман Вольф, “король” подобного рода дельцов-эксплуататоров, привыкший, чтобы крупнейшие артисты шли к нему на поклон и часами высиживали в его передней, “удостоил” Рахманинова “великой чести” — предложением выступить в его берлинских концертах.
На запрос Германа Вольфа о размере желаемого Рахманиновым, гонорара тот назначил, не помню уж теперь, какую сумму, только сумму эту Герман Вольф нашел “дерзко-чрезмерной” и гордо ответил Рахманинову, что такой большой гонорар у него получает только один пианист — Евгений д'Альбер (в свое время действительно крупный пианист, ученик Франца Листа). На это письмо не менее гордый, чем Вольф, Рахманинов ответил:
— Столько фальшивых нот, сколько берет теперь Е. д'Альбер, я тоже могу взять.
Ангажемент не состоялся.
Постоянными посетителями воскресений, наших “дней отдохновения”, были А. Н. Скрябин, Ф. Ф. Кенеман, А. Н. Корещенко, К. Н. Игумнов, С. В. Самуэльсон и А. М. Черняев (сын знаменитого сербского героя, генерала М. Г. Черняева).
На наших воскресных обедах бывали и некоторые профессора консерватории. Постоянно присутствовали А. И. Галли, Н. Д. Кашкин и другие, не всегда, но часто А. С. Аренский, С. И. Танеев, П. А. Пабст. Если Зилоти находился в Москве, он был гостем постоянным. Впрочем, о Зилоти даже нельзя говорить как о госте, потому что когда он бывал в Москве, то вплоть до своей женитьбы жил у Зверева.
На нас, то есть на Рахманинове, Максимове и мне, лежала обязанность строго следить за “поведением” гостей за столом. Боже упаси, если у кого-нибудь не оказывалось ножа или вилки, если мы не усмотрели и вовремя не сменили тарелки, если перед гостем стоял не наполненный вином бокал и т. д.
По этим воскресным дням нам разрешалось выпивать по рюмке водки, а в торжественных случаях — даже по бокалу шампанского. Злополучная рюмка водки и бокал шампанского вызывали у многих недовольство против Зверева. Считалось это вообще недопустимым, вредным и чуть ли не развращающим.
Зверев знал, что такие суждения существуют, тем не менее с ними не считался; рюмку водки и бокал шампанского мы продолжали получать не только в наши дни отдохновенья, то есть по воскресеньям, но и в те вечера в трактире, куда мы почти в обязательном порядке попадали после концерта или театра.
Позднее возвращение домой из театра или из трактира не изменяло, как я уже писал выше, порядка следующего дня. В первое время мы с одинаковым удовольствием ездили и в театр и в трактир. С течением времени у нас настроение изменилось. На предложение Зверева — хотим ли мы поехать в театр — мы отвечали, что в театр очень охотно поедем, но только нельзя ли из театра поехать не в трактир, а домой?
Когда Зверев услыхал такой ответ, на его лице промелькнуло загадочное выражение, и он ответил:
— Нет, этого нельзя! Ведь нужно же поужинать?
— В таком случае мы в театр ехать не хотим,— отвечали мы.
Лицо Зверева просветлело. Тем не менее он ответил:
— Ну что ж! Тогда в театр не поедем.
Вся загадочность этой беседы выяснилась очень скоро, то есть в ближайшее же воскресенье, когда у нас были по обыкновению гости и среди них те, которые осуждали Зверева за разрешенные нам рюмки водки, бокал шампанского и особенно за поздние ужины в трактире.
— Вот, милые друзья,— сказал Зверев,— плоды моего дурного, по вашему мнению, воспитания моих “зверят”. Вы знаете, что на днях они отказались поехать в театр из-за того, что я не хотел отказаться от нашего посещения трактира после театра! Говорит ли вам это о чем-нибудь? Если не говорит, то я сам вам скажу. Я бесконечно рад, что они побывали в трактире, попробовали там еду, рюмку водки и бокал шампанского. Повидали и понаблюдали за кругом посетителей и их поведением. Проделав все это в моем присутствии, они сами убедились, что в этом запретном плоде нет решительно ничего особенно привлекательного. Их уже, видите ли, в трактир не тянет. А раз так, то и моя миссия, я считаю, блестяще выполнена. Глядя на них и сопоставляя с ними моего же ученика, светлейшего князя Ливена, с которого до двадцатилетнего возраста глаз не спускают, который шага без гувернера не делает и который, конечно, про трактиры с их внешней привлекательностью только понаслышке знает, я с ужасом думаю: что будет с ним, когда он дорвется до этих самых трактиров, не сдерживаемый ни гувернером, ни родными? Воображаю, как быстро “он протрет глаза” отцовским капиталам и как скоро потеряет здоровье. За “зверят” же я теперь спокоен. Они знают цену и трактиру и рюмке водки; их этим не удивишь!
Для Зверева, как я уже вскользь сказал, самым неприятным, самым невыносимым была ложь, в каком бы виде она ни проявлялась,— даже если она имела место при самых лучших побуждениях.
Мой родной брат, как-то случайно проезжая Москву, взял у меня заработанные уже мною двадцать пять рублей, обещая немедленно по приезде домой мне их вернуть. Зверев знал об этом. Брат в точности выполнил свое обещание. Случилось, однако, так, что в день возвращения братом денег Рахманинов получил от своей матери из Петербурга письмо, в котором она жаловалась на свое тяжелое материальное положение и просила Сережу прислать ей сколько-нибудь денег, чтобы она могла для отопления квартиры купить хоть немного дров.
Рахманинов был крайне этим письмом расстроен. Просить денег у Зверева он считал совершенно невозможным, своих у него не было, а тут я получил двадцать пять рублей. Недолго думая, я предложил ему взять у меня эти деньги и отправить матери. Рахманинов с радостью принял мое предложение и тут же отправил деньги. Звереву о получении мною денег от брата я, конечно, ничего не сказал.
На другой или на третий день, не знаю уж почему, Зверев у меня вдруг спросил:
— А что, брат выслал тебе двадцать пять рублей?
Совершенно не ожидая такого вопроса, я на мгновение запнулся, а затем, не глядя ему в глаза, ответил:
— Нет, пока я денег не получил.
К моему счастью, Зверев на меня в этот момент не смотрел, а потому и не заметил, как яркая краска стыда за ложь залила мне все лицо.
— Возмутительно! — сказал Зверев.— Как только твоему брату не стыдно. Ведь я знаю, что у него на все денег хватает, хватает и на кутежи, а вернуть вовремя взятые у тебя последние двадцать пять рублей — не может.
Любя брата, я был глубоко огорчен таким оскорбительным мнением о нем Зверева, но сказать что-нибудь в его защиту и выдать Рахманинова — не мог.
Мое огорчение увеличивалось еще и видом совершенно убитого Сергея Рахманинова. Ему, естественно, было тяжело слышать несправедливые упреки Николая Сергеевича, которые он не в силах был предотвратить.
После этого дня вопросы со стороны Зверева по поводу неприсылки братом денег участились и ругань по его адресу увеличивалась.
Мне это было просто невыносимо.
Наконец, в одну из следующих бесед на эту же тему Зверев мне решительно заявил:
— Знаешь, Мо, я так твоим братом возмущен, что решил сам написать ему и здорово, как он того заслуживает, выругать его!
Такое решение Зверева окончательно приперло меня к стене, и я вынужден был сказать ему всю правду. Выслушав все дело, Зверев не преминул основательно меня пожурить.
— Ты,— говорит он,— конечно, ничего плохого не сделал, но сам посмотри, что произошло оттого, что ты мне солгал. Во-первых, тебе, наверное, и самому было стыдно. Во-вторых, выставил в дурном свете твоего брата, и, в третьих, я его за это ругал. А разве тебе это было приятно? Конечно, нет, я отлично это понимаю. Нехорошо поступил и Сережа. Со мною все вы должны быть откровенны, вы не должны ничего от меня скрывать, меж